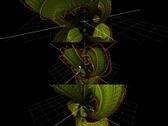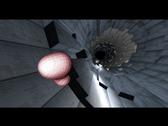Game.EXE #08 за 2004 г. (pdf-формат)
| ||||||||||||||||||||
|
Mob Enforcer
| ||||||||||||||||||||
|
Gotcha!
| ||||||||||||||||||||
|
Knights of the Temple: Infernal Crusade
| ||||||||||||||||||||
|
Counter-Strike 2D
| ||||||||||||||||||||
|
Steel Saviour
| ||||||||||||||||||||
|
Kokomando
| ||||||||||||||||||||
|
Druids the Epic
| ||||||||||||||||||||
|
Larry's Babes: Sally Mae Beauregard
| ||||||||||||||||||||
|
Adventures of Sherlock Holmes: The Silver Earring
| ||||||||||||||||||||
|
(T)Raumschiff Surprise: Periode 1 - XS
| ||||||||||||||||||||
|
Juiced
| ||||||||||||||||||||
|
Tough Trucks: Modified Monsters
| ||||||||||||||||||||
|
Mashed
| ||||||||||||||||||||
|
Ultimate Demolition Derby
| ||||||||||||||||||||
|
Construction-Destruction
| ||||||||||||||||||||
|
Battle for Troy
| ||||||||||||||||||||
|
Codename: Panzers
| ||||||||||||||||||||
|
D-Day
| ||||||||||||||||||||
|
Dragoon: The Prussian War Machine
| ||||||||||||||||||||
|
Raging Tiger: The Second Korean War
| ||||||||||||||||||||
|
234-Gleiche
| ||||||||||||||||||||
|
3D Magnetic Marbles
| ||||||||||||||||||||
|
3D Snake
| ||||||||||||||||||||
|
Acky's XP Breakout 1.0
| ||||||||||||||||||||
|
Actionball 2004 1.1
| ||||||||||||||||||||
|
Alien Sky 1.3.9
| ||||||||||||||||||||
|
AirHockey 3D 1.6
| ||||||||||||||||||||
|
Alienoid
| ||||||||||||||||||||
|
ArkanDROID 1.9
| ||||||||||||||||||||
|
Asteroids 2004 2.0
| ||||||||||||||||||||
|
Astrobatics 1.0.5
| ||||||||||||||||||||
|
Bandit's Big Adventure
| ||||||||||||||||||||
|
Betty's Beer Bar
| ||||||||||||||||||||
|
Bloxx It
| ||||||||||||||||||||
|
Dino and Aliens
| ||||||||||||||||||||
|
Global Defense Network
| ||||||||||||||||||||
|
Glory Zone 1.2
| ||||||||||||||||||||
|
Gold Frog
| ||||||||||||||||||||
|
Liero 1.33
| ||||||||||||||||||||
|
Pac-Manic Worlds
| ||||||||||||||||||||
|
SpiderHunt
| ||||||||||||||||||||
|
Turtle Bay 1.03
| ||||||||||||||||||||
|
Around 3D
| ||||||||||||||||||||
|
Electric Billy
| ||||||||||||||||||||
|
Gemco
| ||||||||||||||||||||
|
Intersection 1.3
| ||||||||||||||||||||
|
Jewel Quest 1.208
| ||||||||||||||||||||
|
BALLOONrain 1.0a
| ||||||||||||||||||||
|
Snowy the Bear's Adventures
| ||||||||||||||||||||
|
Broken Sword: The Shadow of the Templars
| ||||||||||||||||||||
|
Flight of the Amazon Queen
| ||||||||||||||||||||
|
D-Day Demo v2.14
| ||||||||||||||||||||
|
"Операция Silent Storm: Часовые" v1.1
| ||||||||||||||||||||
|
SpellForce: The Order of Dawn v1.35
| ||||||||||||||||||||
|
SpellForce: The Breath of Winter v1.35
| ||||||||||||||||||||
|
Download Express 1.6 SR1 (Build 273)
| ||||||||||||||||||||
|
FtpInfo 1.6.9
| ||||||||||||||||||||
|
Opera 7.53
| ||||||||||||||||||||
|
SpamPal 1.57
| ||||||||||||||||||||
|
The Bat! 2.12.00
| ||||||||||||||||||||
|
BSPlayer 1.00 Final
| ||||||||||||||||||||
|
DVD Shrink 3.2.0.14
| ||||||||||||||||||||
|
Foobar 2000 0.8.3
| ||||||||||||||||||||
|
JanCoo MP3 Player 3.0.3
| ||||||||||||||||||||
|
JetAudio 6.05 Basic
| ||||||||||||||||||||
|
MP3Producer 2.35
| ||||||||||||||||||||
|
DirectX 9.0c
| ||||||||||||||||||||
|
Disk Cleaner 1.5.2.232
| ||||||||||||||||||||
|
Punto Switcher 2.8
| ||||||||||||||||||||
|
RegCool 3.000
| ||||||||||||||||||||
|
SpeedFan 4.14
| ||||||||||||||||||||
|
Webshots Desktop 2.1.0.4586
| ||||||||||||||||||||
|
Weather 5.37
| ||||||||||||||||||||
|
MailWasher 2.0.40
| ||||||||||||||||||||
|
Kaspersky Anti-Virus Personal 4.5.0.94
| ||||||||||||||||||||
|
AntiVir Personal Edition 6.26.00.01
| ||||||||||||||||||||
|
AVG AntiVirus Free 6.0 (Build 723)
| ||||||||||||||||||||
|
Dr. Web 4.31b
| ||||||||||||||||||||
|
WinZip 9.0 Final
| ||||||||||||||||||||
|
WinRAR 3.30
| ||||||||||||||||||||
|
WinAce 2.5
| ||||||||||||||||||||
|
Mozilla Firefox 0.9.3
| ||||||||||||||||||||
|
Burn4Free 1.0.0.601
| ||||||||||||||||||||
|
DeepBurner 1.1.1.128
| ||||||||||||||||||||
|
CDBurnerXP Pro 2.2.9
| ||||||||||||||||||||
|
ICQ Pro 2003b
| ||||||||||||||||||||
|
FlashGet 1.60a
| ||||||||||||||||||||
|
ReGet Free 1.8
| ||||||||||||||||||||
|
nvidia ForceWare Drivers 61.77
| ||||||||||||||||||||
|
ATi Catalist Drivers 4.7 под Windows 2К/XP
| ||||||||||||||||||||
|
Mozilla Thunderbird 0.7.1
| ||||||||||||||||||||
|
Total Commander 6.03a
| ||||||||||||||||||||
|
ZoneAlarm 51.0.11
| ||||||||||||||||||||
|
WinAmp 5.04
| ||||||||||||||||||||
|
Quintessential Player 4.51
| ||||||||||||||||||||
|
Acrobat Reader 6.0.2
| ||||||||||||||||||||
|
Ad-aware 6.0 (Build 181)
| ||||||||||||||||||||
|
XnView 1.70
| ||||||||||||||||||||
|
Borntro
| ||||||||||||||||||||
|
Kings of the Playground
| ||||||||||||||||||||
|
Temp
| ||||||||||||||||||||
|
Typo Graphics
| ||||||||||||||||||||
|
SweetHeart
| ||||||||||||||||||||
|
Textmode Fire
| ||||||||||||||||||||
|
Click Clack, Lobster Attack
| ||||||||||||||||||||
|
In It for the Money
| ||||||||||||||||||||
|
Synthematik
| ||||||||||||||||||||
|
Your Fingers So Gently On My Skin
| ||||||||||||||||||||
|
Glowsick
| ||||||||||||||||||||
|
Dette er Jaevlig Teit
| ||||||||||||||||||||
|
Uridium
| ||||||||||||||||||||
|
Д.Д. Сэлинджер. "Повести о Глассах: Зуи"
| ||||||||||||||||||||
|
Д.Д. Сэлинджер. "Повести о Глассах: 16 хэпворта 1924 года"
| ||||||||||||||||||||
|
Auto Assault
|
Children of the Nile
|
City of Heroes
|
DOOM III
|
Dungeon Siege 2
|
Evil Genius
|
Katana
|
Onimusha 3: Demon Siege
|
Second Sight
|
Soldner: Secret Wars
|
The Fall Last Days of Gaia
|
The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth
|
Warhammer 40.000: Dawn of War
|
Саундтреки
Metal Arms: Glitch in the System (13)
Metal Arms: Glitch in the System: саундтрек Верите ли вы, что музыкальная жизнь есть не только на нашем благословенном PC? Не очень? И правильно. Все самое стоящее в части электронной музыки, конечно же, делается "у нас". Впрочем, еще есть столь же благословенный "Макинтош" и даже умирающая вот уже десять лет "Амига". Там, случается, тоже иной раз кое-что вытанцовывается приятное для уха. А что с консолями? Тамошние игры - они играются в гробовой тишине? Гм... хотелось бы так думать, но, знаете ли, это будет не честно: для консольных безделиц пишут очень серьезные композиторы, бо там, на всех этих PlayStation 2, Xbox и GameCube, крутятся очень серьезные деньги. Нет, предлагаемый вашему вниманию "Original Video Game Soundtrack" к мультиплатформенной консольщине Metal Arms: Glitch in the System, подаренный нам некоей Sierra (www.sierra.com/downloadfile.do?mediaid=8949), конечно же, не шедевр, но развлечет вас по полной программе - пристягнитесь! Автор музыки Кейт Арем (Keith Arem) служит в PCB Productions (www.prbproductions.com). Сайт игры вы найдете по адресу www.metalarms.com. Ну а все права на это приятное аудиомузыкальное творение принадлежат Vivendi Universal Games. 01. Intro 2:09 02. Metal Arms 2:17 03. Swarmer Attack 4:09 04. Rat Race 2:21 05. Droid Town 2:40 06. Mil Attack 2:18 07. Lost City 0:40 08. Fight to the Death 1:44 09. Hold Your Ground 2:06 10. Meeting of the Minds 0:34 11. Night Vision 2:17 12. Final Battle 2:09 13. Recycle 3:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Izmar (8)
Izmar: музыкальный альбом Aze2 Есть такой замечательный сетевой лейбл, как Mono211 (www.mono211.com). Он специализируется на электронной музыке и среди всякого и очень-очень разного (мы, конечно, о качестве) иногда издает настоящие откровения. Для составителя музыкальной части .EXE DVD таким открытием стал датский музыкант Izmar (mailto:info@izmar.com), работающий в жанре nu-chill/breakbeat. Его в меру свежий EP под незатейливым названием Aze2 (легко догадаться, что первый альбом звался Aze) сразил наповал. Настоящее! Слушать и влюбляться - обязательно. Особенно мощное воздействие альбом оказывает в качестве фоновой музыки. Проверено. 1. Aze2-01 6:54 2. Aze2-02 7:04 3. Aze2-03 3:52 4. Aze2-04 6:48 5. Aze2-05 6:16 6. Aze2-06 6:05 7. Aze2-07 6:37 8. Aze2-08 7:42 | ||||||||||||||||||||||||
|
Platoon (6)
Platoon: избранные треки Довольно приятная тактическая игра Platoon, авторства венгерской команды Digital Reality (www.digitalreality.hu), как вы помните, была издана под занавес 2002 года компаниями Monte Cristo Multimedia и Strategy First. Игропроцесс, впрочем, был в меру привычным, растиражированным другими, более богатыми во всех отношениях играми, а вот звуковая дорожка запомнилась - оправданным, шагающим нога в ногу с геймплеем драматизмом, симпатичными мелодическими ходами, тем же живым симфонизмом. Сегодня мы называем авторов музыки - Тамаш Крейнер (Tamas Kreiner. Вы слышали его музыку в Desert Rats vs. Afrika Korps, Hegemonia: Legions of Iron, Imperium Galactica) и Эрвин Надь (Ervin Nagy, соавтор Тамаша по большинству дорожек) - и даем вам хоть немножко окунуться в их мастерпис. Всего шесть коротких, но ярких треков: 01. Green Hell - Main Title 2:56 02. Aftermath 0:54 03. Muddy Waters 1:03 04. Ho Shi Min Trail 0:58 05. Jungle Heat 1:03 06. Intro - Coming of Age 1:15 | ||||||||||||||||||
|
Conspiracy - Emerald Box (1)
Emerald Box: музыкальный чип-диск От роскошного Mentalmilestones от Panic, что вы видели-слышали в прошлом выпуске музыкальной .EXE DVD-странички, к чуть более простому (хотя бы потому, что речь идет о чип-музыке) Emerald Box от венгерской демосценической группы Conspiracy (существует с ноября 2002 года). Простому, но очень симпатичному - и в части графического оформления, и по собственно музыке. Авторы этого сборника: музыка - vincenzo, программирование - gargaj, графика - zoom. Состав же диска таков: 01. Eludom 02. Outsider 03. (T)Hurrican 04. 84 05. Bird of Pray 06. Cracked 07. Dansce Funkcya 08. Drunk drivin' 09. Error 404 10. Little Mermaid 11. Loop 12. Out Of Energy 13. P318 14. S.O.S. 15. Slime 16. Space Potatoes 17. Tech 18. Intro 19. Limited Feeling 20. Smiling Face Хотите познакомиться с "конспирологами" поближе? Добро пожаловать по следующим адресам: http://scenergy.dfmk.hu/vincenzo и http://conspiracy.intro.hu | |||
|
Chris 'tweaker' Vrenna (23)
Chris Vrenna: избранные треки Вероятно, нет никакого смысла представлять Криса Вренну (от же tweaker) - всяк уважающий себя и любящий видео-, электронную и киномузыку человек знает, что Крис нынче - один из самых востребованных голливудских... не композиторов, но ремиксеров. И хватит о нем! Человек очень талантливый, раскрученный, находящийся, что называется, на гребне попкультурной волны, и это говорит о нем и его творениях все. Слушайте сборную солянку из его плодов за несколько лет. Правда же, местами очень сильно? Местожительство Криса в Сети: www.myspace.com/tweaker и www.tweaker.net/home.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дж.Д. Сэлинджер. Повести о Глассах (130)
Дж.Д. Сэлинджер. Повести о Глассах: "Зуи", "16 хэпворта 1924 года". И снова аудиокниги. И какие! Сам Джэром Д. Сэлинджер со своим гениальным циклом о семье Глассов! Сегодня вы познакомитесь еще с двумя аудиоповестями (предыдущие - "Выше стропила, плотники", "Симор: Введение" и "Фрэнни" - ищите на прошлом .EXE DVD): "Зуи" и "16 хэпворта 1924 года", которые, между прочим, в России пока не издавались. Вернее так: любезная компания "Ардис", наш партнер по продвижению в любящие художественную литературу широкие играющие массы звуковых книг, передала нам право ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ повестей. За что ей поклон в пояс. Собственно же аудиокнига "Повести о Глассах" будет выпущена "Ардисом" в начале августа - и пропустить ее было бы с вашей стороны кощунством. Звоните в "Ардис" по телефону (095) 787-5488, заходите на сайт компании www.ardisbook.ru - и требуйте, требуйте, требуйте! Текст повестей прочитан по следующему изданию: Сэлинджер Д.Д. Над пропастью во ржи. Повести. Рассказы/ Пер с англ. - М.: НФ "Пушкинская библиотека", ООО "Издательство АСТ", 2002. Перевод с англ. Р. Райт-Ковалевой, М. Ковалевой. Серия "XX век Зарубежная проза" Читает Ирина Ерисанова. Общее время звучания двухдискового ардисовского издания: 14 часов 20 минут. CD 1 (который вы будете сейчас слушать) звучит 6 часов 47 минут, а CD 2 (который, даст бог, мы опубликуем на следующем DVD) - 7 часов 33 минуты. Координаты компании "Ардис": Сайт: www.ardisbook.ru Тел.: (095) 787-5488 Ну а чтобы вы хоть сколько-нибудь прониклись величием Сэлинджера и его книг, ниже мы приводим отрывки из статьи замечательного переводчика и литературоведа (увы, недавно умершего) Алексея Зверева "Сэлинджер: тоска по неподдельности", которая была опубликована в издании Сэлинджер Дж.Д. Выше стропила, плотники. Харьков, 1999. Алексей Зверев Сэлинджер: тоска по неподдельности Загадочность Сэлинджера не перестает изумлять даже через тридцать лет после его фактического ухода из литературы. Так и не выяснены причины, побудившие к такому решению: чувство исчерпанности своих писательских возможностей? Опасение повторять и тиражировать себя? Но, может быть, вернее предположить какой-то глубокий перелом во взглядах, нечто родственное пережитому Толстым, который к старости находил ничтожными и постыдными свои художественные сочинения. Или отшельничество, которое предположительно должно увенчаться гениальной, всеобъемлющей книгой. Так уже бывало в истории литературы. Вспомним второй том "Мертвых душ", над которым Гоголь бился столько лет и даже как будто достиг цели, во всяком случае, сообщил младшему Щепкину, что работа окончена, - но лишь с тем, чтобы в тот же вечер высмеять "этот вздор". Существовала или нет хотя бы вчерне законченная рукопись злосчастного тома, мы достоверно никогда не узнаем, и похоже, не менее таинственной останется судьба "большой книги" Сэлинджера, если, конечно, она не миф. Периодически сообщения о его сенсационном романе, вроде бы уже почти готовом для печати, появлялись в газетах до середины 80-х годов. Но каждый раз выяснялось, что это очередная выдумка погорячившихся журналистов. В отличие от Гоголя, Сэлинджер не возмущался, не опровергал, давая понять, что его вообще не затрагивает мирская суета. Слухи увядали сами собой. Потом они прекратились вовсе. Сэлинджера оставили в покое, хотя время от времени возобновляются разговоры о его странной жизни в городе Корниш, который стоит на берегу реки Коннектикут. Проверить эти пересуды невозможно, потому что Сэлинджер категорически отказывается от интервью и публичных выступлений, не поддерживая никаких контактов ни с литературной, ни с читательской средой. Упорно держится мнение, что затворником он стал после того, как обратился к буддизму, и что новообретенная вера заставила его отказаться от творчества как слишком мирского занятия. В Корнише у Сэлинджера дом с садом, обнесенным высокой оградой. Никто из соседей там не бывает, но, впрочем, соседей и нет, дом стоит на проселке, ведущем из города к дальним фермам. Известно, правда, что посреди сада построено что-то наподобие летнего домика. Говорят, своими очертаниями он напоминает замок Мюзо, старинное поместье в Швейцарии, которое купили для Рильке друзья сразу после первой мировой войны. Там стареющий немецкий поэт пережил необычайный прилив вдохновения, которому мировая лирика обязана "Дуинезскими элегиями", написанными за несколько недель. Сэлинджер, преклоняющийся перед Рильке, - об этом есть несколько достоверных свидетельств, - в своем замке провел уже несколько десятилетий, но пока из-под его пера не вышло ничего сколько-нибудь заметного. Вообще ничего. По слухам, чуть ли не ежедневно он с утра запирается во флигеле, проводя там долгие часы, посвященные - чему? Рукописи, которой, как той гоголевской, сожженной, назначено стать откровением, явив миру абсолютную нравственную истину? Или медитации, внутреннему созерцанию и самовоспитанию? Скорее второе, так как и творчество всегда было для Сэлинджера поиском того, что в мифопоэтических индийских текстах именуется "сатья" - ценностей. даруемых единством бытия и истины. Но родится или не родится из подобных медитаций текст, который мог бы стать одним из самых значительных документов духовной истории нашего времени, - об этом остается только гадать. Постепенно надежда угасает даже у самых преданных почитателей американского прозаика. Да и как иначе? Последнее художественное произведение, которое им опубликовано, фрагмент "Шестнадцатый день Хэпворта 1924 года", датируется 1965 годом. Тридцать лет - срок более чем достаточный, чтобы пригасить любой энтузиазм. А Сэлинджер за все эти годы напомнил о себе всего один раз, высказавшись в 1974-м на страницах "Нью-Йорк тайме", похоже, с единственной целью, чтобы его больше не тревожили. И высказался он так: писатель - существо с очень хрупкой психикой, его надо воспринимать как человека, по обычным понятиям, не вполне нормального. О том, что составляет для него смысл жизни, ни один серьезный писатель говорить не станет, незачем задавать ему глупые вопросы, над чем он работает. Что же касается публикаций, пусть от него ничего не ждут, Сэлинджер об этом просто не думает. Ему намного дороже собственный душевный покой. После этого окрепло подозрение, что Сэлинджер и правда не вполне нормален. Даже в медицинском отношении, не говоря о критериях обычного здравомыслия. Поговаривали, что и дом в Корнише на самом деле пуст, а хозяин находится в лечебнице, откуда ему не выйти. Видимо, тут не больше чем домыслы, и не исключено, что они спровоцированы Сэлинджером, в конце концов добившимся желаемой цели: о нем перестали шуметь, его перестали подкарауливать у ворот усадьбы и приглашать на престижные симпозиумы. Он предоставлен самому себе. Бог весть, принесет ли уединение что-то очень значительное в литературном смысле. Пока приходится констатировать, что творчество Сэлинджера - это прославившая его повесть о Холдене Колфилде (ее принято называть романом, но это чистая условность), четыре относительно завершенных фрагмента недописанного цикла о семье Глассов, знаменитая книга "Девять рассказов" (1953), которую многие тоже считают целостным повествованием, и два с половиной десятка новелл, появившихся еще до того, как был создан шедевр, озаглавленный по строке из Бернса "Над пропастью во ржи" (1951). Этот двухтомник представляет нам Сэлинджера почти исчерпывающе, не вошли лишь заготовки, предваряющие "Над пропастью во ржи". Что же касается его жизни, пишущим о Сэлинджере приходится довольствоваться немногочисленными твердо установленными фактами и скудными интервью, одно из которых, данное школьнице из Клермонта, носит полушутливый характер. Конечно, многое остается непроясненным, вызывает споры. Однако биографическую канву можно восстановить без труда. Находят что-то знаменательное в том, что дата рождения Сэлинджера - 1 января 1919-го, первый день первого мирного года после первой катастрофической войны нашего столетия. Впрочем, не исключено, что в действительности дата другая, неделей раньше или позже: документов нет, а склонность Сэлинджера мистифицировать публику, чрезмерно интересующуюся его частной жизнью, хорошо известна. Он, например, как-то обмолвился, что у него дед по отцу был раввином, хотя это, похоже, чистая выдумка. Биографы не обнаружили никаких следов иудаистского воспитания. Зато установили, что отец писателя, коммерсант-оптовик, всю жизнь занимался импортом ветчины из Европы. Детей (была еще сестра Дорис, восемью годами старше) растили в духе методизма. Этого хотела мать, по происхождению ирландка с шотландскими примесями, как большинство жителей Кливленда, родного города Сэлинджера. Рос он, правда, уже в Нью-Йорке. Из скупых воспоминаний писателя о его ранней юности контуром проступают картины спортивных летних лагерей: для подростков, будничной рутины в военной школе "Вэлли-Фордж" - все это не оставит никакого следа на страницах будущих книг. Кажется, несколько раз он сопровождал отца, предпринимавшего поездки по торговым делам в Вену и в Польшу, затем служил на шведском пароходе, участвуя в развлекательных программах для купивших Круиз по Карибскому морю. Обо всем этом нужно говорить со знаком вопроса, так как после "Вэлли-Фордж" в биографии Сэлинджера начинается время белых пятен. Серьезного образования он, во всяком случае, не получил, хотя несколько месяцев посещал литературные курсы при Колумбийском университете. И в марте 1940-го напечатал, свой первый рассказ. Через полтора года война добралась и до Америки. Сердечная аритмия сделала Сэлинджера непригодным для пехоты. Но в армии он находился с начала мобилизации, участвовал в высадке на побережье Нормандии, был связистом, служил в контрразведке. Согласно неподтвержденной версии, на фронте он познакомился с Хемингуэем. Тот приехал к ним в часть с репортерским заданием и стал похваляться пистолетом, изъятым у пленного немца. А чтобы все убедились, как точно бьет люггер, выстрелом снес голову цыпленку, - история очень правдоподобная, учитывая особенности Хемингуэя, не раз отмеченные мемуаристами. Сэлинджер был глубоко шокирован этой нелепой воинственностью. Выпады против Хемингуэя, олицетворяющего неприемлемый тип поведения, равно как невзыскательную литературу, появятся и в "Девяти рассказах", и в повестях о Глассах. А все началось, быть может, с того пустяшного фронтового эпизода. 1945 год был временем самой большой творческой активности Сэлинджера, если судить по публикациям. Он печатал рассказ за рассказом, и читателю уже был представлен Холден Колфилд; так звали солдата, который пропал без вести в Европе. Ему было всего девятнадцать лет. Остался брат, Винсент, - о его гибели мы узнаем из другого рассказа, - и совсем маленькая сестра Фиби. Потом появился и рассказ, где описан школьник Холден, каникулы, первая влюбленность, первое похмелье. Этим рассказом Сэлинджер дебютировал в "Нью-Йоркере", самом престижном из американских литературных журналов. Там он будет печататься все недолгие годы своей славы. Известно, что первый вариант повести, которая и принесет ему славу, был готов у Сэлинджера к концу 1945-го, даже отправлен в издательство, но затем изъят автором и коренным образом переработан. Окончательная версия, получившая бернсовское название, - правда, строка из баллады шотландского поэта перефразирована, - увидела свет 16 июля 1951 года, и эта дата останется в истории американской литературы. К тому времени уже появились почти все ставшие знаменитыми новеллы. Известность Сэлинджера делалась все более широкой, да и Холден не явился для тогдашней читающей публики незнакомцем. Но все равно "Над пропастью во ржи" воспринимается как прорыв в другое литературное измерение. И не только. Это больше чем литература, скорее манифест, декларация, исповедание веры целого поколения, во всяком случае, художественный документ, увековечивший и свое время, и некий тип сознания. Теперь это очевидно, но первые отклики критиков были очень сдержанными, а подчас и враждебными. Зато читательский триумф сразу стал несомненным, и для Сэлинджера началась эпоха благополучия. Тогда он и купил участок с домом на окраине Корниша, жил там со своим ризеншнауцером и писал "Фрэнни". Опубликованная в январе 1955-го, повесть стала его свадебным подарком Клэр Дуглас. Они поженились месяц спустя. Теперь детям уже под сорок, и оба наотрез отказываются что бы то ни было сообщать журналистам, интересующимся творческой формой и психическим состоянием их отца. Волна восторгов, споров, недоумения пошла на спад где-то с середины б0-х, а нелюдимость Сэлинджера и его упорное молчание, - кроме запрета перепечатывать новеллы, не включенные в "Девять рассказов", от него не было вестей, - в итоге привели к тому, что он в массовом восприятии стал фигурой едва ли не легендарной или, по меньшей мере, принадлежащей далекому прошлому. Многие изумляются, узнавая, что он наш современник. И не только в метафорическом смысле. Знаменитая повесть начинается отказом повествователя поднимать со дна "всю эту давидкопперфилдовскую муть". И если подразумевать характер рассказа, он впрямь отмечен максимальной сосредоточенностью на происходящем здесь, сейчас, непосредственно перед читателем, а вся предыстория отсутствует: ни "где я родился", ни "как провел свое дурацкое детство". Однако при всем том Диккенс напоминает о себе читателю Сэлинджера вполне внятно, пусть это имя не названо среди тех, кто, по свидетельству американского прозаика, был чем-то ему важен в годы творческого становления. Свидетельство - оно так и осталось единственным - было получено У.Максуэллом, приурочившим к выходу в свет "Над пропастью во ржи" большую статью, основанную на беседах с писателем. Сэлинджер упомянул с десяток имен, редко оказывающихся рядом, когда речь идет о пережитых сильных увлечениях. Китс в этом перечне соседствуете Прустом, Джейн Остин - с Шоном О'Кейси, есть и три русских классика: Достоевский, Толстой, Чехов. Подобные признания, конечно, не следует воспринимать с простодушной доверчивостью. Рильке, например, Сэлинджером тут не назван, но ведь неспроста жена Симора Гласса жалуется матери, что муж совсем ее извел немецкими стихами, которые написал "единственный великий поэт нашего века". Не назван и Фицджеральд, хотя другой представитель семейства Глассов отзывается о "Великом Гэтсби" как о своем "Томе Сойере", - значит, без этой книги он вырос бы другим. Уж не розыгрыш ли весь приведенный Максуэллом список? Но даже если и розыгрыш, лакуна, какой воспринимается отсутствие в нем Диккенса, все равно выразительна. Потому что на самом деле тут прямые связи, хотя нет никакого влияния. Есть общность темы, обозначившейся в нескольких самых ярких романах английского гения, особенно "Больших надеждах", а для Сэлинджера ставшей без преувеличения центральной и неотступной. Это тема, которая трудно поддается формулировкам, делая их неизбежно приблизительными, однако всякий раз речь идет о мучительном переходе из мира юности во взрослый мир. О том, как трудна происходящая при этом смена ценностей, какие она влечет за собой травмы и потери, какое отчаянное, хотя и безнадежное сопротивление вызывает сама неизбежность такого шага. У Сэлинджера этот мотив возник уже в самых первых рассказах, тех, которые он не хочет перепечатывать, находя их художественно слабыми. Вряд ли с авторской оценкой так уж безоговорочно согласятся читатели. Иногда она до очевидности несправедлива: допустим, если речь идет о таком рассказе, как "Девчонка без попки в проклятом сорок первом". Правда, он написан уже после войны, далеко не новичком, однако Сэлинджер отрекся ведь и от этого своего детища, словно для него оно остается пробой пера, не больше. А на самом деле перед нами проза мастера. И в ней все очень сэлинджеровское: героиня, которая страшится взрослеть, хотя ей самой не полностью ясны собственные побуждения, и тонкая смена регистров повествования, то слегка насмешливого, то щемящего, и лирический сюжет, вырастающий из вполне тривиальной истории. Многие были бы счастливы, сумев написать - так написать - эти несколько страниц. Не признавая их настоящей литературой, Сэлинджер, конечно, исходит из чисто субъективных критериев. И можно лишь пожалеть, что долгие годы его созданные в молодости новеллы оставались практически недоступными. Может быть, помимо забот о своем писательском реноме, им руководило опасение, что рассказы поймут как беллетризированные фрагменты автобиографии. При свойственной Сэлинджеру скрытности такие опасения легко понять; Однажды, работая над хроникой Глассов, он высказался в том духе, что в литературе нельзя смешивать идущее непосредственно от событий жизни автора и отмеченное печатью его личности: допустимо только второе. Очень распространенные после Флобера призывы раз и навсегда изгнать из литературы субъективизм пропали для Сэлинджера втуне. Хотя в наш век они получили дополнительное - и очень серьезное - эстетическое обоснование, которое предоставил Т. С. Элиот с его доктриной надличностной поэзии. Но Сэлинджер неизменно субъективен, иначе говоря, у него все по-своему увидено, осознано и пережито. С годами эта пристрастность взгляда, нескрываемая индивидуальность восприятия будут у него чувствоваться лишь сильнее и сильнее. И одновременно - все меньше и меньше будет чувствоваться автобиографический материал, а невозможность прочитать за событиями, составляющими повествование, другие, из которых складывалась жизнь автора, и постоянно присутствующий элемент игры в доподлинность, остающуюся только игрой, - все это будет приводить в отчаяние интерпретаторов цикла о Глассах. Ведь эти повести все время провоцируют биографические прочтения, но именно провоцируют, а на поверку не дают для них оснований. С новеллами дело обстоит проще: как все начинающие авторы, Сэлинджер больше доверяет действительно происходившему, а не творческой фантазии, и "личное" у него еще почти не отделилось от "автобиографии". Впрочем, "автобиография" тоже не самое верное слово в этом контексте, поскольку рассказы начинающего Сэлинджера совсем не напоминают лирический монолог. Не так существенно, до какой степени они навеяны пережитым самим автором, важнее, что сейчас они кажутся зарисовками уже далекой от нас реальности, хотя и не очень отчетливыми. В них и правда сделана попытка донести атмосферу того времени, тогдашнее преобладающее умонастроение, как ни расплывчаты такие понятия. И отчасти Сэлинджер этого добился. Теперь кажется, чтоо все нити и тянутся к знаменитой повести, и расходятся от нее дальше. Иногда даже говорят, что все написанное Сэлинджером - в сущности, одна большая книга. Это явное преувеличение. Но сквозные мотивы действительно просматриваются с большой ясностью. Прежде всего мотив бегства от окружающего, старая, казалось бы, давно исчерпанная романтическая тема. У Сэлинджера она приобретает особый звук. Возникла она уже в самых первых его рассказах. Как не обращать внимание на ту страсть к кинематографу, которая владеет его героями: и Лоис Тэггетт, спешащей в кино с самого утра, как неисправимый курильщик начинает день с сигареты, и тетей Реной, просиживающей сеанс за сеансом, чтобы заглушить тупую боль воспоминаний, и ни о чем всерьез не задумывающейся Элейн, которая инстинктивно предпочитает полутьму кинозала обустроенному семейному гнезду. Волшебный мир экрана, волшебный в самом примитивном значении слова, т.е. ничего общего не имеющий с жестокой прозой обыденности, кажется им исцелением от всех ран, от всех обид и разочарований. В равнодушном и неуютном мире, где персонаж Сэлинджера на каждом шагу сталкивается то с непониманием, то с холодной расчетливостью, то с откровенной неприязнью, чарующая, изящно выстроенная история, какими заполнены киноленты, начинает восприниматься как другое бытие, где все из мира магии и чуда. Пусть чаще всего показывают или пошловатую сказку, или мыльную оперу, это не имеет для героев значения. Даже и суррогаты искусства служат защитой от будничности. А если вспомнить, какая реальность вступает в свои права, как только вспыхнет свет, возвещая о конце фильма, дорого и необходимо даже непритязательное, поддельное волшебство. Словечко "липа", ставшее одним из самых ходовых в лексиконе нескольких поколений, найдет Холден Колфилд, и он же первым заговорит о том, что "липовое" все вокруг, не исключая киноактеров, - сплошное лицемерие, нескончаемая фальшь, нагромождения поддельных ценностей, выдаваемых за истинные этические понятия. Но примерно так же, сделав исключение для кино, осознают окружающее персонажи, появившиеся у Сэлинджера еще за несколько лет до его повести, причем чаще всего они, как те же Лоис или Элейн, явно обделены авторской симпатией. Ведь, если присмотреться, перед нами варианты одной и той же жизненной позиции, воплощения одного итого же человеческого типа. Подразумевая Холдена, этот тип обозначат словами "беглец" или "отклоняющийся", наиболее частыми в необозримой критической литературе, которая посвящена "Над пропастью во ржи". Они, разумеется, точнее, чем определение "бунтарь", которое настороженный повестью советский официоз сопровождал уточнениями типа "бесцельный", "индивидуалистический" и "негативистский". На самом деле никакого бунта нет вообще. И все претензии к героям Сэлинджера, продиктованные требованиями целенаправленности протеста, - а они предъявлялись и американской критикой, - попросту абсурдны. Герои вовсе не протестуют, не отвергают, не противопоставляют. Они всего лишь стремятся не участвовать в той человеческой комедии - или трагедии, - которая развертывается вокруг. У них собственная логика и своя система приоритетов - на чей-то взгляд, притягательная, а по другому мнению, несостоятельная, но уж неоспоримо своя. Не такая как у всех или, по меньшей мере, у большинства. Вот это и сближает таких разных персонажей Сэлинджера, как Лоис Тэггетт с ее нелепым замужеством, и воспринимающий себя спасителем на краю бездны Холден, и Симор Гласс, шагнувший в эту бездну вроде бы без всякого внешнего повода, если не почувствовать, какой сложный подтекст соткан еле заметными штрихами на нескольких страницах, занимаемых рассказом "Хорошо ловится рыбка-бананка". Основной персонаж был найден Сэлинджером очень рано, и почти сразу появился его антагонист: он воплощает разумность, безликость, практицизм по принципу "живи, как все". И совсем не обязательно, чтобы этот персонаж таил в себе угрозу для героя, которую Холден почувствовал в лифтере отеля и потом, быть может, напрасно заподозрил в бывшем учителе Антолини. Намного более типичен случай, когда находящиеся рядом безвредны, как супруг Лоис в своих непременно белых носках. У Сэлинджера мелочи вроде этих злополучных носков или велеречивых сентенций школьного преподавателя истории начинают восприниматься как знак невыносимой тривиальности. И деться от этой пошлости некуда, разве что удрать. В кино, в зоосад, в луна-парк, где можно унестись в фантастический мир, усадив сестру на деревянную лошадку и наблюдая, как она катается под хлещущим словно из ведра дождем. И расстановка героев, и сам конфликт обозначились у Сэлинджера в начальную пору творчества, однако далеко не сразу были найдены художественные ходы, действительно неповторимые, как его писательская индивидуальность. Возможно, претензии к собственным ранним рассказам он испытывал оттого, что повествование в них развивается по знакомой, сотни раз использованной схеме. В свое время Сэлинджер связывал немалые надежды с новеллой "Братья Вариони", даже надеялся заинтересовать ею Голливуд. Для таких расчетов были основания: коллизия, фабула, характеры - все здесь узнаваемо для выросших на поверхностной беллетристике, на банальностях в том роде, что бездуховное американское общество, предоставляя щедрые возможности карьеристам, не дорожит серьезными художниками. И в рассказах, навеянных впечатлениями армейских лет, такого рода банальности обычно чересчур на виду: иной раз не верится, что это и вправду Сэлинджер. Хотя есть исключения: прежде всего рассказ о последней увольнительной в город перед отправкой на фронт, за океан, - это уже готовый эскиз характера, прославившегося под именем Холдена, а затем Бадди Гласса (кстати, Холден тут упомянут, но как пропавший без вести). Со временем изменится очень многое, и сам главный герой приобретет глубоко своеобразные черты, но останется наметившийся принцип художественного построения: действие, замкнутое рамками одного дня или распадающееся на несколько фабульно едва скрепленных эпизодов, поэтика мимолетных, лишенных внешней обязательности, штрихов которые создают максимальный эффект зримости. Не приходится удивляться, что после войны пропавший на фронте Холден "нашелся". Этюды, связанные с разработкой этого характера и стоящей за ним проблематики, продолжали накапливаться. Мы видим Холдена совсем, подростком: вот он обдумывает, как сбежать из школы, вот с девочкой, за которой вроде бы ухаживает, отправился смотреть какую-то чепуху в мюзик-холле. А вот и первый набросок знаменитого ночного разговора с Фиби, того, в котором появляется строка из Бернса. Но именно по той причине, что некоторые эпизоды повести, если ограничиться фабулой, кажутся просто цитатами из уже напечатанных к 1951 году рассказов, особенно понятно, какого масштаба и значения творческий сдвиг потребовался для того, чтобы написать "Над пропастью во ржи". Хотя в новелле "Опрокинутый лес" модный поэт кокетничал перед провинциалкой своей приверженностью ко всему естественному в искусстве и неприятием всего сконструированного, придуманного, самому Сэлинджеру эта эстетическая позиция не близка. Знающим самую большую новеллу из всех напечатанных перед тем, как появится "Над пропастью во ржи", нет надобности объяснять, насколько автору чужеродны ее главный персонаж и весь его строй мыслей. Однако тем, кто открывает Сэлинджера, читая знаменитую повесть, трудно избавиться от ощущения, что и правда это всего лишь прямодушная исповедь подростка первых послевоенных лет, которую автор где-то подслушал, постаравшись записать как можно более тщательно, с сохранением всех характерных словечек, интонаций, эмоциональных оттенков. Если тут и распознается элемент зрелого мастерства, то проявилось оно, главным образом, в том, чтобы дать герою возможность выговориться до конца, не поправляя его и не перебивая. Лишь через несколько лет, когда стало сглаживаться первое, - не преувеличивая, ошеломляющее - впечатление от монолога подростка, изгнанного за неуспеваемость из школы и на два-три дня предоставленного самому себе в неуютном, продуваемом декабрьскими ветрами Нью-Йорке, увидели, что весь этот монолог представляет собой литературу, а вовсе не спонтанную речь главного персонажа, который покоряет своей искренностью. Оптический обман, заставлявший первых читателей повести воспринимать ее чуть ли не как документальное повествование и, во всяком случае, как чрезвычайно достоверное свидетельство о времени, которое в ней воссоздано, постепенно ослабел, хотя не исчез вовсе. Открылись смыслы, далеко не исчерпываемые такого рода правдивостью. Но можно понять, отчего чувство, что перед нами безыскусное описание, и не больше, оставалось столь прочным. Об этом позаботился сам автор, отчасти добиваясь такого эффекта, хотя, разумеется, способами сугубо художественными. Тут было не Просто доверие к герою, которого следовало лишь правильно выбрать, и пусть он говорит сам о себе. Выбор главного персонажа и правда оказался на редкость удачным: поколение - даже не одно - сразу узнавало в нем свою репрезентативную фигуру, словно никому не дано было выразить сокровенную жизнь тогдашних подростков, как это удалось Холдену. Но такого персонажа надо было отыскать, и Сэлинджер - это подтверждают его несобранные новеллы - долго к нему подбирался, отвергая вариант за вариантом. А уж его идеи, нередко удивительные даже для людей, которых не назвать толстокожими, и специфические его понятия, и переживания, обостряющиеся иной раз по сущим пустякам, и не высказанные вслух инвективы, не до конца им самим понятые, но неотступные боли, - все это, покоряя своей человеческой убедительностью, тем не менее полностью принадлежит литературе. Точно бы этого не замечая, о Холдене спорили, как могут полемизировать о поступках людей, чем-то обративших на себя внимание, или тех, с кем знакомы накоротке. Это приводило к комичным ситуациям, когда Холдену, мальчику шестнадцати лет, пресерьезно объясняли, например, что ему бы следовало более полно соответствовать этическому кодексу, обязательному для взыскующих этической истины не по капризу. Или, вспомнив этого мальчика, сокрушались из-за расплывчатости идеалов и ориентиров подрастающего поколения. В советских условиях комизм приобретал явственный черный оттенок. Едва повесть опубликовали в 1961, влиятельная литературная дама тут же забила идеологическую тревогу. Дама когда-то стояла близко к Блоку, потом оправдывалась за это перед властью, убивая на стадии рукописи книги Ахматовой, и Сэлинджер для нее был лишнем поводом продемонстрировать свою благонадежность. Что это еще за абстрактная доброта и надклассовая нежность? - грозно вопрошала дама, добавляя: уж наверняка герою "могло бы прийти в голову кое-что более конкретное, чем пропасть". Подразумевалась, видимо, баррикада или, на худой конец, стачком. А не то получается прямо-таки "мюнхенская философия": "борьбу за победу новых отношений" герой не признает, над "чувством прекрасного" насмехается, так что Холдену прямая дорога в штурмовики. Для иллюстрации советского менталитета такие выкладки незаменимы, как и рассуждения другого идейно подкованного литературоведа, впоследствии крупного издательского чиновника. Он устроил Холдену просто разбор персонального дела с обвинениями в истерике и буржуазных замашках. И обличал даже не писателя, а именно героя, словно между явлением литературы и жизненным фактом разницы особой нет. Вот Холдена и распекали, как нерадивого ученика на педсовете. Как провинившегося пионера, которому ведено выйти из строя. Если бы эти разносы ненароком попались на глаза Сэлинджеру, он, можно не сомневаться, испытал бы чувство удовлетворения, как человек, добившийся своего. Потому что заказанные возмущения можно было и проигнорировать, а вот убедительность иллюзии, будто Холден в самом деле отыскивает пруд с утками у Южного входа в Центральный парк или вскипает негодованием при виде похабщины на стене в Музее этнографии, - эта убедительность дорогого стоит. Сэлинджер лучше всех своих критиков знал, что это только иллюзия и что герой взят им из жизни ничуть не больше, чем из повседневности взяты Дон Кихот или Гамлет, о которых ведь тоже рассуждали - и не кто-нибудь, а Тургенев, - как о психологически узнаваемых типах, почти что соседях по поместью. А если характер, созданный писателем, приобретает такую узнаваемость, даже становится нарицательным, значит, достигнут какой-то особенный, незаурядный эффект. Именно к такому эффекту Сэлинджер и стремился, потому что для него тонкое, до последней мелочи продуманное художественное решение, в отличие от очень многих современных прозаиков, само по себе ничего не значит. Он любит использовать мотив игры, на нем построена, например, новелла "Человек, который смеялся", по праву считающаяся украшением книги "Девять рассказов". Однако, в отличие, например, от Борхеса или Набокова, Сэлинджера никто не причислит к игровой литературе. У него другое главенствующее устремление: тоска по реальному и не обманывающему. По неподдельности. Как не вспомнить, о чем беседует Холден с сестрой, тайком пробравшись к себе в квартиру, пока родители в гостях где-то далеко за городом. В этой сцене, упоминаемой всеми, кто писал о Сэлинджере, устами героя выражена мысль, которую так часто повторяют и другие персонажи, особенно молодые: нельзя существовать напоказ. Все должно быть "по-настоящему", без "липы". Но как увериться, что в самом деле нет ни лицедейства, ни притворства? Как доказать хотя бы одному себе" что не существует зазора между побуждением и поступком? И что выбор, даже в сложных ситуациях, определен беспримесным чувством, которое сильнее, чем логика роли, навязываемой обществом каждому. Сильнее, чем обязанности, накладываемые на человека его общественной функцией. С годами обостряется сознание, что никто не свободен ни от функции, ни от роли, заменившей собой естество. Но для большинства тут лишь банальное правило игры. Его, надо усвоить и существовать, не замечая печального несовпадения личности с самой собой, когда в дело вступают нормы, принятые социумом. Игнорируя вынужденное раздвоение, насколько это возможно. А герои Сэлинджера воспринимают порядок, считающийся нормой, как аномалию. Не могут сжиться с тем, что им тоже приходится каким-то образом приспосабливаться к таким установлениям, во всяком случае, с ними считаться. Не принимают всего, что родственно взглядам и понятиям "подонков", - слово обладающее очень широкой семантикой в лексиконе Холдена. Подонком был сутенер, повстречавшийся ему в нью-йоркском отеле, но и какой-то "некрасивый тип", в кафе тискавший под столиком свою некрасивую девицу под рассуждения о самоубийстве - тоже. "Подонки" все те, кто усвоил циничные законы отношений во взрослом мире, предав забвению такие ценности, как неподдельность и человеческая целостность. Для персонажей, которые близки Сэлинджеру, это забвение равнозначно гибели, и оттого так отчетливо выражена у любого из них ностальгия по безвозвратно уходящему прошлому. Вот что составляет действительно основной конфликтный узел рассказов и повестей, завоевавших Сэлинджеру статус современного классика,- мечта о вечном неведении, которое всегда предпочтительнее познания. Попытка длить детство, когда давно истекли все календарные сроки. Сопротивление взрослости, принимающее формы и трогательные, и драматичные, и смешные. Травмы, которыми завершается для этих персонажей соприкосновение с грязью и пошлостью обыденности, болезненные уроки вроде тех, какие Холден получил от проститутки, посетившей его гостиничный номер, а еще раньше от дирекции школы, выставившей за двери неординарного питомца, - все это Сэлинджер описывает с покоряющей достоверностью. И она не раз побуждала воспринимать его книги как обличение предрассудков, лицемерия, делячества, словом, как критически осмысленную картину американской жизни, какой она была почти полвека назад. Для таких интерпретаций есть не только внешние поводы, но и серьезные аргументы. Тем не менее слишком многое оказывается упущенным. Ведь, строго говоря, проза Сэлинджера обладает лишь косвенным сходством с литературой, озабоченной социальными конфликтами. Гораздо существеннее для нее метафизические коллизии и проблемы, потому что герой Сэлинджера бьются над поисками тех духовных приоритетов, которые очень сложно установить и еще труднее сохранить, вовлекаясь в обыденность, от которой нет избавления. Простодушие, наивность, этическая незрелость, все то, в чем постоянно винят этих всегдашних чужаков среди преуспевших среднестатистических обывателей, вовсе не обязательно выдает какую-то их обделенность, нехватку жизненных сил. Однако, вопреки расхожему мнению, не обязательно и возвышает этих персонажей над безликой массой. Взгляд Сэлинджера аналитичнее, а его суждения далеки от прямолинейности. Он просто старается понять саму эту позицию, олицетворяемую Холденом и некоторыми из Глассов, почувствовать ее и в сильных сторонах, и в уязвимых, донести ее сущность, которая неизменно сводится к одному и тому же: к нежеланию взрослеть. Об этом у Сэлинджера нигде не сказано впрямую, однако косвенные свидетельства чрезвычайно выразительны. Например, тональность, в какой описано, как герои воспринимают все относящееся к эротической сфере. Когда-то уже упомянутая литературная дама без обиняков уличила Сэлинджера в пристрастии к порнографии. Наглядное подтверждение безнадежности случая, когда медведь наступает на ухо! Потому что более целомудренного писателя, чем Сэлинджер, в наше время просто нельзя представить. Ни одной сцены, хотя бы оттененной эротическими коннотациями, ни одной откровенной подробности, Кажется - какая старомодность! Но дело тут скорее не в писательских особенностях Сэлинджера, а в психологии его персонажей. Для них секс олицетворяет взрослость, а значит, отказ от неведения, от неподдельности переживания мира - двух самых главных ценностей, которым привержены они все. Холден с кулаками набрасывается на одноклассника, хвастающегося подвигами, которые, как тысячи других, совершил на заднем сиденье машины, - это было бы невозможно понять, не почувствовав специфических смыслов, которыми обладает в сознании героев Сэлинджера весь мир эроса. Нацарапанное на школьной лестнице краткое ругательство ранит Холдена, быть может, больше, чем ранило бы известие о какой-нибудь планетарной катастрофе. Но ведь для него это и есть катастрофа: проникновение эроса, т.е. неустранимой пошлости, в тот круг существования, который принадлежит детям. "Сутенеристые типы и шлюховатые блондинки" в холле гостиницы воспринимаются как вестники Апокалипсиса. Неудачи с ровесницами, и не подозревающими, что Холден всерьез отнесется к их ритуальным протестам, - отнюдь не следствие его эмоциональной черствости, это только результат инстинктивной боязни эротического посвящения. То же самое будет в рассказах и в цикле о Глассах. Метафора бегства от взрослости и там строит действие, как прежде вокруг нее развертывались - не по фабуле, а по сути - события в "Опрокинутом лесе" и "Над пропастью во ржи". Повесть выделяется на этом фоне, пожалуй, лишь одним: в ней бегство почти становится неметафоричным. И Холден совершенно серьезно обдумывает свой бесповоротный уход из дома, и крохотная Фиби тащит по Пятой авеню гигантских размеров чемодан со всем добром. За рамки метафоры сюжет все-таки не выйдет. Однако у читателя, знающего американскую прозу, тут же возникнут многочисленные соотнесения. Самое близкое - с Геком Финном, мечтающим удрать из-под опеки сердобольной вдовы на "индейскую территорию". Поэтика Сэлинджера - точный мелкий штрих, который в контексте повествования как целостности приобретает символическое значение. И, конечно, не ради беллетристических красот упомянуты у него эскимос, сидящий над прорубью, и пьющие из ручья олени, и птицы, которые летят на юг. Все это лишь экспонаты и панно в Музее этнографии где, поджидая Фиби, Холден вспоминает, как сам младшекласником разглядывал индианку, ткущую ковер, и витрины с чучелами. Но Музей, куда школьников водят всегда, класс за классом, начинает восприниматься как островок детства посреди Манхэттена, где сплошь небоскребы, потоки машин, толпы деловитых людей. А этот островок сопрягается с образом реальности, какой она была до появления Цивилизации, в мире Сэлинджера выступающей как синоним взрослости. Холден хоть бы сейчас от нее "удрал к черту на рога" воспламенившись мечтой жить где-нибудь в лесу, кормиться чем выйдет и сознавать себя свободным. От "липы" свободным, от "подонков", от мыслей о самоубийстве, почему-то возникающих вместе с мыслями о корпорации, где высокооплачиваемую должность юрисконсульта занимает Колфилд-папа. Те же мысли, или очень с ними схожие, набегают в Музее этнографии. А причина та, что это не просто островок детства. Экспонаты прежние, но посетитель стал уже "другой", - он вырос, и это неотвратимо. Может быть, и удастся осуществить реконструкцию эмоционального состояния, когда-то испытанного перед этими стендами ребенком, но неосуществима мечта продлить, сберечь это состояние навсегда или хотя бы надолго. Жажда невзросления обворачивается экзистенциальной драмой. Это доминирующий сэлинджеровский сюжет. К нему писатель возвращается постоянно, хотя и придавая подчас совершенно неожиданные смысловые оттенки своей центральной коллизии и находя для ее воплощения непредвидимые художественные ходы, - как например, в цикле, посвященном Глассам. Писать этот цикл Сэлинджер начал примерно в ту же пору, когда у него выявился, становясь сводами все более сильным, интерес к философии и культуре буддизма: с середины 50-х годов. Десять лет творчества были отданы этому замыслу практически безраздельно. Потом началось затворничество. Те куски фрески, которые приобрели законченный вид, с трудом складываются в единство. Фрагменты создавались без заботы о последовательной хронологии событий. Внешняя бессвязность повествовательных линий, вероятно, отвечала выбранному автором художественному принципу, - Сэлинджера интересуют мгновенья, когда видна сокровенная суть личности, и совсем не интересует бессобытийный прозаизм текущего. К тому же герои уже упоминались в трех новеллах, напечатанных до "Фрэнни", с которой начал публиковаться цикл. О некоторых событиях жизни Глассов едва упомянуто. За подробностями надо обращаться к книге "Девять рассказов". Если выстраивать историю семьи, распутывая сложно соединенные или неожиданно исчезающие нити, начать будет необходимо как раз с последнего, что появилось в печати. Ведь "Хэпворт" соединяет две крайние точки этой летописи. Нижняя дата - 1924 - указана в заглавии, верхняя - 1965 - стоит под вступлением, которое Бадди предпослал письму старшего брата, сорока годами ранее написанному в летнем лагере. Впрочем, подобная смысловая и событийная упорядоченность оказывается чисто произвольной. Попытка обнаружить за хроникой Глассов какую-то житейскую узнаваемость с самого начала встречает сопротивление текста, построенного так, что эти толкования выглядят произвольными и неубедительными. И в конце концов от них приходится отказаться вовсе. Так как и при самой необузданной фантазии невозможно представить, чтобы семилетний ребенок - а столько было Симору, когда он поехал в Хэпворт, - сумел написать такое громадное и сложное письмо. Да еще уведомляя родителей, что жить ему суждено лет тридцать или лишь чуточку больше, и называя имена писателей, философов, общественных деятелей, о которых он не мог иметь понятия. Каким бы ни казался вундеркиндом. Подчеркнутая условность повествования, его вызывающая недостоверность, имея в виду конкретные обстоятельства и факты, помешала циклу о Глассах стать таким же популярным, как рассказ о Холдене. Зато избавила эти повести от вульгарных комментариев, когда не видят разницы между искусством и отчетом. Требовались слишком большие усилия, чтобы проступили очертания семейной хроники. Правда, при желании этого можно было добиться. И тогда перед читателем проходили судьбы детей Бесси и Леса Глассов, эстрадных актеров. По примеру родителей актерами решили сделаться младшие - Зуи, затем Фрэнни. Один из сыновей погиб в Японии в результате несчастного случая, другой застрелился вскоре после окончания войны. Уэйкер пошел по духовной стезе, став католическим священником. И только Беатриса, она же Бу-Бу, попробовала существовать как все, оставшись обычной средней американкой, на чьих плечах семья и дом. С нее-то, на первый взгляд, наименее яркой из Глассов, надо начинать описание их духовной одиссеи. Бу-Бу была представлена читателям еще рассказом "В лодке", одним из ключевых для Сэлинджера. Там намечена ситуация легко узнаваемая, почти бытовая, но вместе с тем несколько загадочная, как в большинстве сэлинджеровских новелл. Упорство, с каким предпринимает все новые попытки уйти из дома четырехлетний мальчик, остается внешне немотивированным и необъясненным. Но об его сопротивление тому, что принято и заведено, разбиваются старания героини создать уютный домашний очаг. Причем самое примечательное, что Бу-Бу не сетует на фатум, пославший ей "трудного ребенка", не пытается переломить характер сына. Она его слишком хорошо понимает. Ей самой очень близка такая вот обостренная реакция вроде бы по пустякам, потому что люди чаще всего не замечают собственного озлобления, пошлости, грубости. Для других это в порядке вещей, но от Глассов напрасно добиваются, чтобы они были "больше похожи на других людей", как хотелось теще Симора. Беда в том, что, взрослея, совсем на них не походить становится нельзя. Тогда и возникает преследующий Глассов выбор между приниженным, бесцветным существованием с его мелочными бедами и ничтожными радостями, - или небытием. Катастрофическим этот выбор станет лишь для Симора. Но как угроза он преследует и остальных, даже тех, кто просто соприкоснулся с кем-нибудь из этого странного семейства, оказался втянут в это силовое поле, а, выйдя из него, уже не может существовать так, словно ничего не переменилось. "Лапа-растяпа" - еще одна новелла, обладающая в творчестве Сэливджера обобщающим значением, рассказ, который побудил некоторых критиков говорить о писателе как приверженце философии, объясняющей мир в категориях трагического абсурда. Ведь жизнь Элоизы и в самом деле поломало нелепое событие, случайность. А следом потянулись внешне бестревожные годы, когда накапливается ощущение пустоты, с которым все труднее справиться. Как и другие новеллы Сэлинджера, "Лапу-растяпу" не раз пробовали читать в контексте экзистенциализма. Однако возникает значительная трудность: Сэлинджер не принял толкование ответственности, без которого распалась бы вся этическая концепция, исповедуемая и Камю, и Сартром. Он не верит, что в условиях, когда выбор полностью несвободен, сознание ответственности, стоический гуманизм остаются - по крайней мере, должны оставаться - неистребимыми. Для Сэлинджера типичнее случай, когда, сломленный судьбою, человек предает собственную духовную сущность, платя за такое отступничество по жестокому счету. И эта драма разыгрывается в самых тривиальных обстоятельствах приглушающих безысходность, как это происходит в рассказе "Лапа-растяпа". Но есть Рамона, девочка в очках с толстыми стеклами, все время выдумывающая себе кавалеров-ровесников, чтобы свести к минимуму общение со взрослыми. А с Рамоной рассказ заполняется коллизиями, к которым у Сэлинджера стянуты все основные нити И "Лапа-растяпа", и "В лодке" с журнальных страниц перешли на книжные. Сборник был назван вызывающе безыскусно: "Девять рассказов" - однако вскоре возникли догадки, касающиеся символики этого числа. Выяснилось, что "девять-одна из философских метафор "Махабхараты", где человеческое тело уподоблено "девятивратному граду", а также сакральная цифра, без которой нельзя понять, поэтику "дхвани", то есть глубоко зашифрованного важнейшего смысла, каким обязан обладать, по древнеиндийским верованиям, художественный текст [См.: Галинская И.Л. Загадки известных книг. М.: Наука, 1986]. До какой степени Сэлинджер мог быть знаком с этой поэтикой известной преимущественно одним специалистам, и насколько соотносил ее правила с собственным творчеством, - все это остается предметом предположений, не больше. Очень вероятно, что тут были лишь объективные сближения и переклички. Хотя сам факт, что индийские религиозные доктрины, а затем дзен-буддизм увлекали Сэлинджера с конца 40-х, несомненен. Следы этого увлечения наглядны: эпиграф к книге "Девять рассказов", представляющий собой стихотворение верней, философскую загадку японского поэта и проповедника ХVIII века Хакуина Осе. пространные экскурсы в область индуистских воззрений на страницах "Зуи", притча, открывающая повесть "Выше стропила плотники", и многое другое. В цикле о Глассах (три новеллы и четыре повести, считая "Фрэнни" и "Зуи" единым произведением, которое автор и выпускал под одним переплетом) есть другие свидетельства внимательного чтения древнеиндийских текстов. Иногда они не очевидны, но важны, как белый листок, который Бадди собирался приложить к свадебному подарку брату, - у индусов это символ верности. Но странно было бы рассматривать этот цикл как беллетристическую иллюстрацию или даже криптограмму, в которой скрыты откровения индуизма. Слишком часты на этих страницах отзвуки настроений и переживаний, описанных и в повести о Холдене, и в таких рассказах, как "Грустный мотив" или "Голубой период де Домье-Смита", где лишь с очевидными натяжками выискивается восточный интеллектуальный колорит. Строго говоря, воздействие дзен-буддизма на Сэлинджера становится очевидным не так часто: в новелле "Тедди", повести "Зуи", наименее удавшихся его вещах. Тех, где, по справедливому замечанию Джона Апдайка, "видно, как лектор узурпирует права писателя". В беседе с преподавателем Никольсоном заглавный герой новеллы, несмотря на свою юношескую неискушенность, демонстрирует превосходное знание идей, постулирующих единство человеческой души и вселенской сущности, а также понимание кармы - философии воздаяния за все совершенное на земле. А Зуи, стараясь вывести из душевного стресса свою младшую сестру, доказывает ей, что молитвы не помогут, необходимо просветление, достигаемое другими средствами. Для этого предстоит погрузиться в себя, ощутив чувство родственной близости как универсальное, примиряющее с миром состояние. Этот мотив - родственная близость, совсем не обязательно предполагающая кровное родство, - несомненно, очень близок Сэлинджеру. Многое в цикле о Глассах подчинено этой идее, особенно история Симора. Когда его уже давно нет на свете, Бадди, рассказчику незамысловатой истории, озаглавленной "Симор: Введение", удается словно бы вернуть своего брата из могилы, и возникает образ провидца, не услышанного гения, наставника, умевшего пробудить ту способность родственного восприятия жизни, которая ценнее даже самых прочных семейных уз. Но читатель уже знает, что Симор покончил с собой, - об этом рассказ "Хорошо ловится рыбка-бананка". И, несмотря на умиротворенную интонацию, которая преобладает на страницах "Зуи", больше запоминаются картины тяжелого потрясения, пережитого Фрэнни, И "Хэпворт" вряд ли вознаградит состоянием просветленности читателя старого письма, где дано мрачное предсказание судьбы писавшего. Все это можно было бы объяснить тем, что древнеиндийские доктрины слишком нормативны, чтобы соответствовать нынешним реальностям. Можно было бы ловить Сэлинджера на непоследовательности: уповая на медитацию, он тем не менее вынужден писать о том, что она не приносит настоящей гармонии отношений с миром. Не оттого ли и предпочел не писать вообще? Но, даже предполагая, что индуизм действительно стал религией Сэлинджера, не следует делать отсюда вывод о его творческой зависимости от этого учения. Если зависимость и есть, то относительная: в конце концов, при своем виртуозном мастерстве Сэлинджер всегда больше доверял интуитивному, а не умозрительному постижению сущностей. И уж во всяком случае, решительно отводил любые посягательства на автономность искусства, которое в наше время столько раз пытались и пытаются представить просто облегченным изложением витающих в воздухе идей. Норман Мейлер отозвался о Сэлинджере иронично, даже язвительно, назвав его "самым одаренным и выдающимся среди всех, кто так и не окончил начальную школу". Отзывы писателей о других писателях неизменно пристрастны, и Мейлер тоже тенденциозен. Тем более что себя он всегда рассматривал как романиста с серьезными философскими амбициями. У Сэлинджера таких притязаний нет. Зато есть выношенный и самостоятельный взгляд на действительность. Все неподдельное, ускользающее от пошлости и механического тиражирования для него обладает безусловной высшей ценностью, собственно, единственной настоящей ценностью в мире. А сегодняшняя жизнь способна лишь обострять тоску по неподдельности и не способна, совсем не способна ее утолить. Размышляющим о причинах такого долгого молчания Сэлинджера, очень бы стоило задуматься прежде всего об этом. Сэлинджер Дж.Д. Выше стропила, плотники. Харьков, 1999. С: 455-471. (с) 1997.А.Зверев. Все права защищены. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




















Raumschiff Surprise - Periode 1 - XS/thumb1.jpg)
Raumschiff Surprise - Periode 1 - XS/thumb2.jpg)




















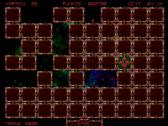
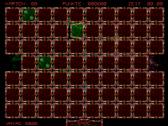

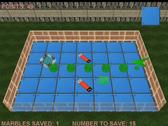















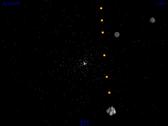



























































































/thumb1.jpg)